Роза, слепой стояли во дворе, собака лаяла, заходилась в лае.
— Ей рано еще, — сказала Роза.
— Она знает, — спокойно сказал слепой.
Сергей бежал и бежал, распахивая одну за другой двери. Он толкнул какую-то дверь, увидел за ней солнце…
…выскочил — и оказался во дворе своего дома, увидел…
…Розу, слепого, мать.
— Ох! — Мать вдруг присела у самой калитки, повернула к ним лицо и вся мгновенно осветилась счастьем оттого, что испытала боль.
— Ай! — Роза всплеснула руками, добежала к ней.
— Что?! — Слепой напрягся, ждал.
— Пусть он уйдет! — показала мать на Сергея. — Нехорошо! — И опять присела от боли.
— Уйди! — Роза побежала к Сергею, остановилась у слепого. — Родится! Родится! Войны не узнает, вот это не узнает! — Заплакала, совала Сергею в лицо черные от угля руки.
— Роди, Лидка! — закричал вдруг слепой, побагровев от напряжения. — Роди, чтоб всем им в рот! Мать твою!.. Даешь!
Мать скорчилась от боли, показывая на Сергея.
Роза затолкала его в дом, плача, захлебываясь слезами.
Праздник
Сергей оказался за закрытой дверью, постоял секунду, ахнул по-бабьи, потому что понял, что это он — родится, не выдержал, открыл дверь, выбежал во двор.
Ни матери, ни Розы там уже не было. Он выскочил за калитку, побежал дальше, оглядываясь по сторонам.
И не сразу заметил, что деревья, окружающие его, уже не маленькие, публика — иная, чем в сорок девятом году. Он вздрогнул, когда услышал над головой крик.
Кричал второй режиссер киногруппы в охрипший мегафон так, что собственно в мегафоне не было надобности:
— Товарищи, товарищи! Не напирайте! Мы снимаем настоящий праздник для того, чтобы все было естественно! Милые, родные, дорогие наши ветераны! Все очень хорошо, но вы забыли: не надо смотреть в камеру! Вы же только что очень хорошо и естественно все переживали, волновались и плакали. Переживайте, плачьте! Волнуйтесь! Только не смотрите в камеру! Представьте, что нас нет, сейчас вам дадут музыку! Музыку! Вам надо вспомнить свою жизнь, радости и горести. Всплакните, можно для достоверности! И главное, никому не смотреть в камеру! Запрещаю и умоляю! Согласились? Приготовились? Атмосфера праздника. Звучит музыка. Играет патефон. Не вижу патефона, дайте кому-нибудь патефон! В руки дайте!
Сергей Пшеничный худой, изможденный, серый, долго смотрел на происходящее, не понимая, не пытаясь понять, только чувствуя, как сходит с него напряжение, усталость, как подкатывают к глазам слезы. Водил глазами по публике, по казавшимся ненормальными киноработникам.
Увидел отца. Старого, прямого, без очков, щурившегося на публику. Растроганного и счастливого, готового по-настоящему заплакать по требованию взмокшего киношника. И почувствовал, какое это счастье: видеть отца живым, рядом.
— Заведите патефон! — крикнул тучный оператор. — Отсюда пластинку видно будет!
— Какая разница, что за пластинка. Крутится — и ладно.
— Товарищи, массовка! — опять захрипел мегафон. — По моей команде веселимся, переживаем… Приготовились?
— Юрий Константинович, можно? — обратился он уже без мегафона к режиссеру. Тот кивнул и довольно тихо сказал:
— Приготовились. Мотор. Камера.
— Пошли! — заорал второй режиссер.
Зазвучала музыка, массовка пришла в движение. Молодежь — музыканты с фестиваля и зрители откровенно балдели. Взрослые чуть смущались, но разбивались на пары, танцевали скованно, напряженно. Бабульки и вправду прослезились.
Сергей пробился к отцу, тронул его за рукав.
— Здорово, бать.
Тот обернулся, узнал и напрягся: не забыл ссору.
— Давно не виделись, — отвернулся: держал марку. Не выдержал, сдался: — Настоящий праздник. Победа. — Вытащил из кармана два пакета, потолще и потоньше. — Здесь премия от меня. За защиту диссертации. Четыреста… А это сто, как обычно. С днем рождения. Не потеряй. — Опять отвернулся.
Сергей стоял с деньгами в руках и уже не смотрел на праздник. Чувствовал отца боковым зрением.
Отец был жив. Стоял рядом. Обиженный, но правый. Неуязвимый, родной. Режиссер подозвал второго режиссера, тыча пальцем куда-то в толпу, заговорил горячо, увлеченно. Второй режиссер посмотрел, тоже загорелся, побежал к оператору. Тот через стеклышко окуляра нашел и укрупнил лицо, так понравившееся режиссеру.
Это был Андрей Немчинов, стоявший столбом с патефоном в руках. Ему дали патефон и забыли и о нем, и о патефоне. Он улыбался и покачивался в такт оглушающей музыке через динамики. Расслышал другую, едва слышную, с допотопной пластинки. Наклонил голову, и та музыка, из сорок девятого, заполнила пространство. Он пошел к танцующим музыкантам и старушкам, среди которых, может быть, была Роза. Динамики орали свое, а он ходил среди танцующих людей, чтобы пластинку услышали все. Одна из старушек увидела его и долго и изумленно глядела ему вслед.
Волосы у него были коротко стрижены, а по выражению лица было видно, как он рад тому, что что-то происходит помимо его воли и не надо думать ни о прошлом, ни о будущем.
![Разлука [=Зеркало для героя] - Рыбас Святослав Юрьевич](https://cdn.my-library.info/books/280056/280056.jpg)

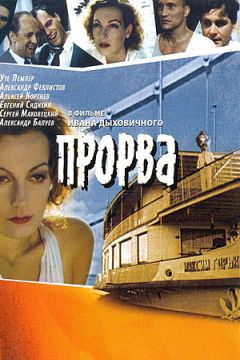
![Надежда Кожушаная - Разлука [=Зеркало для героя]](https://cdn.my-library.info/books/277568/277568.jpg)
